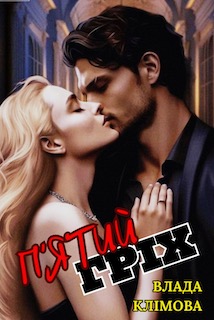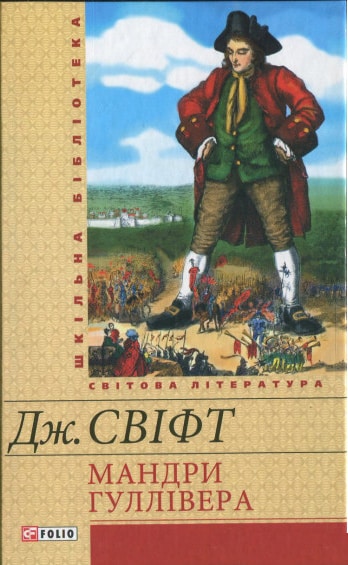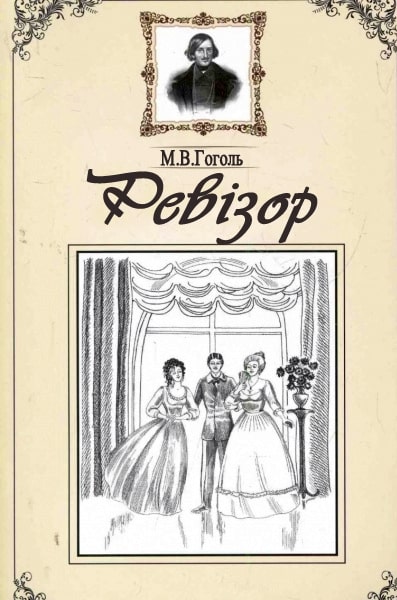Бальзак - Шагреневая кожа, Бальзак
Шрифт:
Інтервал:
Добавити в закладку:
- Знаете, что я вам скажу! - заговорил совершенно пьяный Бьяншон. - Большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или же злодеем, умницей или же идиотом, добродетельным или же преступным.
- Можно ли так рассуждать о добродетели! - воскликнул де Кюрси. - О добродетели, теме всех театральных пьес, развязке всех драм, основе всех судебных учреждений!
- Молчи, нахал! Твоя добродетель-Ахиллес без пяты, - сказал Бисиу.
- Выпьем!
- Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом?
- Хорош дух! - вскрикнул Бисиу.
- Они перепились, как ломовые, - сказал молодой человек, с серьезным видом поивший свой жилет.
- Да, в наше время искусство правления заключается в том, чтобы предоставить власть общественному мнению.
- Общественному мнению? Да ведь это самая развратная из всех проституток! Послушать вас, господа моралисты и политики, вашим законам мы должны во всем отдавать предпочтение перед природой, а общественному мнению - перед совестью. Да бросьте вы! Все истинно - и все ложно! Если общество дало нам пух для подушек, то это благодеяние уравновешивается подагрой, точно так же как правосудие уравновешивается судебной процедурой, а кашемировые шали порождают насморк.
- Чудовище! - прерывая мизантропа, сказал Эмиль Блонде. - Как можешь ты порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхитительные вина и блюда, а ты сам того и гляди свалишься под стол? Запусти зубы в эту косулю с золочеными копытцами и рогами, но не кусай своей матери…
- Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов, если Республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если границы королевской власти находятся где-то между убийством Генриха Четвертого и казнью Людовика Шестнадцатого, если либерализм становится Лафайетом?[33]
- А вы не обнимались с ним в июле?
- Нет.
- В таком случае молчите, скептик.
- Скептики - люди самые совестливые.
- У них нет совести.
- Что вы говорите! У них по меньшей мере две совести.
- Учесть векселя самого неба - вот идея поистине коммерческая!
Древние религии представляли собою не что иное, как удачное развитие наслаждения физического; мы, нынешние, мы развили душу и надежду - в том и прогресс.
- Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой? - сказал Натан. - Каков был конец «Истории короля богемского и семи его замков»[34] - такой чудесной повести!
- Что? - через весь стол крикнул знаток. - Да ведь это набор фраз, высосанных из пальца, сочинение для сумасшедшего дома.
- Дурак!
- Болван!
- Ого!
- Ага!
- Они будут драться.
- Нет.
- До завтра, милостивый государь!
- Хоть сейчас, - сказал Натан.
- Ну, ну! Вы оба - храбрецы.
- Да вы-то не из храбрых! - сказал зачинщик, - Вот только они на ногах не держатся.
- Ах, может быть, мне и на самом деле не устоять! - сказал воинственный Натан, поднимаясь нерешительно, как бумажный змей.
Он тупо поглядел на стол, а затем, точно обессиленный своей попыткой встать, рухнул на стул, опустил голову и умолк.
- Вот было бы весело драться из-за произведения, которое я никогда не читал и даже не видал! - обратился знаток к своему соседу.
- Эмиль, береги фрак, твой сосед побледнел, - сказал Бисиу.
- Кант? Еще один шар, надутый воздухом и пущенный на забаву глупцам!
Материализм и спиритуализм - это две отличные ракетки, которыми шарлатаны в мантиях отбивают один и тот же волан. Бог ли во всем, по Спинозе, или же все исходит от бога, по святому Павлу… Дурачье! Отворить или же затворить дверь - разве это не одно и то же движение! Яйцо от курицы, или курица от яйца? (Передайте мне утку! ) Вот и вся наука.
- Простофиля! - крикнул ему ученый. - Твой вопрос разрешен фактом.
- Каким?
- Разве профессорские кафедры были придуманы для философии, а не философия для кафедр? Надень очки и ознакомься с бюджетом.
- Воры!
- Дураки!
- Плуты!
- Тупицы!
- Где, кроме Парижа, найдете вы столь живой, столь быстрый обмен мнениями? - воскликнул Бисиу, вдруг перейдя на баритон.
- А ну-ка, Бисиу, изобрази нам какой-нибудь классический фарс!
Какой-нибудь шарж, просим!
- Изобразить вам девятнадцатый век?
- Слушайте!
- Тише!
- Заткните глотки!
- Ты замолчишь, чучело?
- Дайте ему вина, и пусть молчит, мальчишка!
- Ну, Бисиу, начинай!
Художник застегнул свой черный фрак, надел желтые перчатки и, прищурив один глаз, состроил гримасу, изображая Ревю де Де Монд,[35] но шум покрывал его голос, так что из его шутовской речи нельзя было уловить ни слова. Если не девятнадцатый век, так по крайней мере журнал ему удалось изобразить: и тот и другой не слышали собственных слов.
Десерт был сервирован точно по волшебству. Весь стол занял большой прибор золоченой бронзы, вышедший из мастерской Томира. Высокие фигуры, которым знаменитый художник придал формы, почитаемые в Европе идеально красивыми, держали и несли на плечах целые горы клубники, ананасов, свежих фиников, янтарного винограда, золотистых персиков, апельсинов, прибывших на пароходе из Сетубаля, гранатов, плодов из Китая - словом, всяческие сюрпризы роскоши, чудеса кондитерского искусства, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Колорит гастрономических этих картин стал ярче от блеска фарфора, от искрящихся золотом каемок, от изгибов ваз.
Мох, нежный, как пенная бахрома океанской волны, зеленый и легкий, увенчивал фарфоровые копии пейзажей Пуссена. Целого немецкого княжества не хватило бы, чтобы оплатить эту наглую роскошь. Серебро, перламутр, золото, хрусталь в разных видах появлялись еще и еще, но затуманенные взоры гостей, на которых напала пьяная лихорадочная болтливость, почти не замечали этого волшебства, достойного восточной сказки. Десертные вина внесли сюда свои благоухания и огоньки, свой остро волнующий сок и колдовские пары, порождая нечто вроде умственного миража, могучими путами сковывая ноги, отяжеляя руки. Пирамиды плодов были расхищены, голоса грубели, шум возрастал. Слова звучали невнятно, бокалы разбивались вдребезги, дикий хохот взлетал как ракета. Кюрси схватил рог и протрубил сбор. То был как бы сигнал, поданный самим дьяволом. Обезумевшее сборище завыло, засвистало, запело, закричало, заревело, зарычало. Нельзя было не улыбнуться при виде веселых от природы людей, которые вдруг становились мрачны, как развязки в пьесах Кребильона, или же задумчивы, как моряки, путешествующие в карете. Хитрецы выбалтывали свои тайны любопытным, но даже те их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщицы после пируэта. Клод Виньон стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно медведь в клетке. Близкие друзья готовы были драться.
Сходство со зверями, физиологами начертанное на человеческих лицах и столь любопытно объясняемое, начинало проглядывать и в движениях и в позах.
Какой-нибудь Биша,[36] очутись он здесь, спокойный и трезвый, нашел бы для себя готовую книгу. Хозяин
Увага!
Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Шагреневая кожа, Бальзак», після закриття браузера.